Сверхпроводниковые технологии вызывают сегодня огромный интерес. В этой области — по-настоящему взрывной рост исследований. Мы поговорили с одним из ведущих исследователей в этой области, ученым, который дважды выигрывал мегагрант (2013 и 2024 годах) Министерства науки и высшего образования РФ, доктором физико-математических наук Александром Голубовым, заведующим лабораторией топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ.
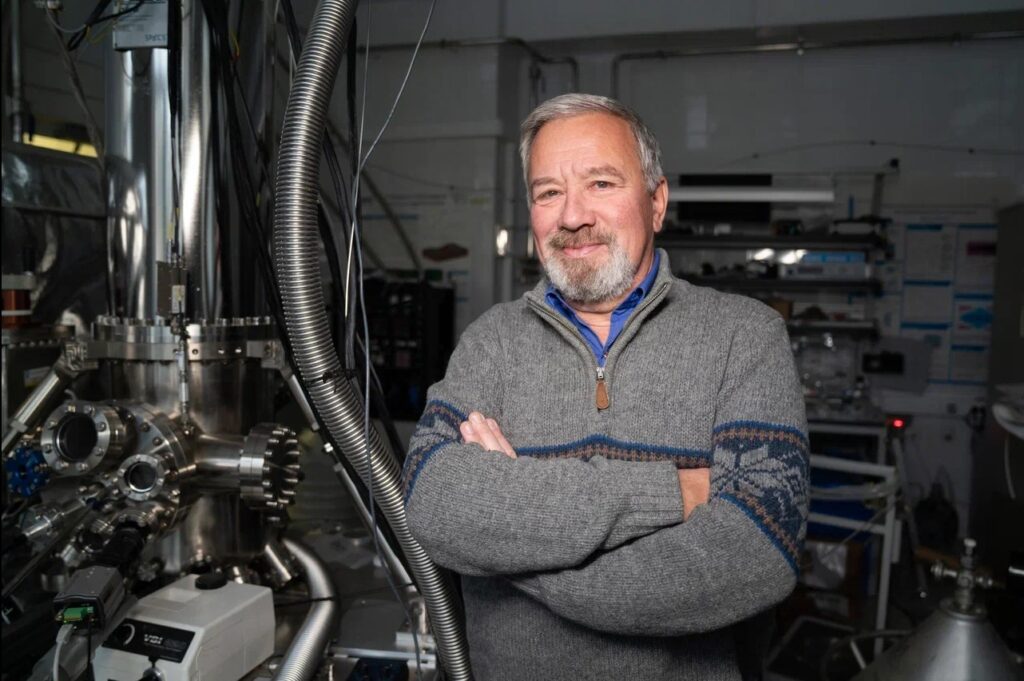
Фото Анастасия Каплина
— Александр Авраамович, часто приходится читать, что кремниевые носители уже достигли своего предела миниатюризации. Что дальше? Кто участвует в гонке и кто победит?
— Отчасти вы правы. Нужны новые технологии. Мы считаем, что хорошие перспективы есть у сверхпроводниковых технологий.
Преимущества сверхпроводников — это, во-первых, высокая частота быстродействия. Если взять эффект Джозефсона, то там на порядок более высокие частоты.
Другое преимущество — низкое энерговыделение. Если сравнить с полупроводниковыми технологиями, то один из их серьезных недостатков —то, что увеличение плотности приводит к перегреву системы. Это уже сейчас становится большой проблемой. Чтобы охладить все эти гигантские сервера, которые делает Google, нужны не менее гигантские системы. Сверхпроводники по определению почти бездиссипативные. Они почти не выделяют тепла.
Еще я бы сказал, что сверхпроводники привносят новую функциональность.
Полупроводник — классическая система. Это обычные электроны, а в сверхпроводниках у нас пары электронов, куперовские пары, бозоны. Они все находятся в одном состоянии. Сверхпроводник, каким бы он ни был большим, описывается единой фазой. Электронные пары конденсируются на одном квантовом уровне, в то время как обычные электроны ведут себя хаотично. Это удивительно. Мы называем это макроскопической квантовой когерентностью.
Эта теория была сформулирована в начале 50-х годов советскими физиками Виталием Гинзбургом и Львом Ландау, позже ставшими Нобелевскими лауреатами.
Такое замечательное свойство порождает уникальные эффекты, которые не имеют аналогов в полупроводниках.
Существуют разные мнения по поводу практического применения сверхпроводимости. Среди ее недостатков указывают на то, что сверхпроводники требуют сверхнизких температур. Но сейчас это уже перестало быть проблемой. Появились криокулеры, достаточно компактные и недорогие. Тем более что вообще вся квантовая электроника так или иначе должна охлаждаться. Она работает при кельвинах или даже при милликельвинах.
Но имеются и другие нерешенные проблемы. Например, память. Мы занимаемся в том числе и тем, как сделать новый тип устройств памяти на сверхпроводниковых элементах.
Идеи, как сделать память на сверхпроводниках, развиваются довольно давно. В СССР был такой человек Константин Константинович Лихарев, в МГУ. Он создал целое направление, по-английски RSFQ (Rapid Single Flux Quantum). Он вместе с сотрудниками разработал целую систему, как передавать информацию и реализовать вычисления посредством манипулирования квантами магнитного потока. Но до сих пор не решена проблема, как записывать информацию в память. Сегодня это одно из наших направлений исследований.
Другой важный аспект — проблема всех квантовых вычислений упирается в то, что существует декогерентность — разрушение квантовых состояний под влиянием внешней среды. В последнее время появилось понятие topological protection, то есть топологическая защита, когда вы не можете систему разрушить в принципе.
Возьмем для примера керамическую кружку. У нее есть ручка. Без ручки кружка была бы односвязной, но с ручкой она становится двусвязной. Никаким непрерывным преобразованием вы не можете убрать эту ручку. На этом принципе основаны идеи топологической защиты квантовых вычислений. Они были предложены лет 10 назад, ну и теперь их надо реализовывать в физических системах.
Поклонники полупроводников могут также сказать, что у этой технологии еще большой резерв. Так и есть. Полупроводниковые технологии привлекают гигантские инвестиции, нам конкурировать сложно. Это мое личное мнение.
Сверхпроводимость хороша там, где нельзя сделать по-другому. Есть уникальные эффекты, которых не существует в мире полупроводников или простых металлов. Эти эффекты связаны, например, с фазовой когерентностью, упомянутой выше.
Но пока и в наших компьютерах, и в телефонах прекрасно работают полупроводниковые технологии, и они еще имеют резерв для ускорения и роста, но все-таки в связи с проблемой энерговыделения достижение технологического предела — вопрос времени.
Google сделал квантовый компьютер на эффекте Джозефсона, то есть на сверхпроводниковых элементах. Это уже работает. Если говорить о практике вообще, то есть уже приборы — сверхчувствительные магнетометры (сквиды), которые используются для измерения очень слабых магнитных полей. Есть и томографы, которые работают на тех же принципах.
Это примеры квантовых приборов, хотя и на более базовом уровне. Это уже работает и даже есть уже ряд коммерческих компаний, которые производят такие приборы.
— Что нужно, по вашему мнению, чтобы квантовые технологии раскрыли свой потенциал и открыли новый мир для пользователей, не обязательно на житейском уровне, а на всех уровнях?
— Возможно, это будет сказано немножко слишком прямолинейно, но больше инвестиций. Я уже упоминал, что в полупроводниковом мире большие миллиарды ассигнуются на создание предприятий, которые делают чипы, процессоры и прочее. Это совершенно несравнимо по уровню с инвестициями в прикладную сверхпроводимость. Инвестиции в нашу область приведут, разумеется, к притоку людей, свежих идей и мозгов и, наверное, это вызвало бы какую-то революцию. Ну и эволюционный процесс никто не отменял. Нужно по-прежнему учить студентов и продолжать генерировать идеи.
Можно сказать, что сверхпроводниковые технологии вышли в большей степени из чистой науки. Если с чипами все понятно, это уже стало коммерческой историей, то и квантовым технологиям коммерциализация очень помогла бы. Это не мое частное мнение, это мнение многих моих коллег. Сейчас много об этом пишут. Как ученому мне не очень нравится само слово «коммерциализация», но, с другой стороны, она важна, потому что даст возможность поддержать науку.
Приведу пример условной лаборатории. Есть, скажем, десять аспирантов, а при увеличении финансирования могло бы быть в три раза больше. Допустим, имеется два криостата растворения, где можно делать измерения при милликельвиновых температурах, а могло бы быть пять. Соответственно, увеличился бы поток экспериментов, выросли бы шансы на прорывные открытия. Иногда же просто не хватает времени или, например, установка занята. Есть несколько идей. С какой начать проверку? С этой или вот с этой? Мы же не знаем, какая выстрелит. Если бы у нас было три прибора, мы бы одновременно могли делать три эксперимента. Иначе возникает очередь. Делается один эксперимент, но он не сработал. А время, время уходит! Для студентов результат — тот же стимул. Если есть результат, они начинают работать лучше. В теоретических разработках таких проблем нет, хотя и здесь фактор финансирования очень важен хотя бы для того, чтобы оставить талантливую молодежь в науке, чтобы не уходила на работу в банки, как порой происходит.

Фото Анастасия Каплина
— Какие вы бы назвали«места силы» квантовых технологий?
— Думаю, сейчас стараются все и везде. В Европе, из того, что я лично знаю, это прежде всего Юлих — научный центр в Германии, очень мощный. Под давлением «зеленых» слово «ядерный» из названия давно убрали, но это не помешало ему остаться очень мощным центром. В Нидерландах я бы назвал Дельфт, очень сильный университет. Там есть квантовый центр, который софинансируется Google. Университет Твенте в Нидерландах я также должен упомянуть.
Во Франции, я знаю, есть центры по квантовым технологиям, в Англии. В Финляндии очень сильные группы. В Швеции — университет Чалмерса в Гетеборге.
Италия — они выделили недавно несколько сотен миллионов евро на развитие квантовых технологий. Я был одним из членов комиссии, которая распределяла гранты. Сейчас я нахожусь в Наблюдательном совете итальянского Министерства науки. Мы каждые три месяца получаем отчеты.
Можно назвать десяток стран, как минимум, в которых ведутся подобные исследования с разным успехом. Я бы сказал, что развитие идет повсеместно. Кто-то более на виду, кто-то менее.
В Америке заправляют Google и Intel. Google много инвестирует в сверхпроводниковые технологии. Там есть несколько известных людей. Например, сейчас один из лидеров Джон Мартинес — практически классик нашей науки.
Китай много делает в этой области, и у нас идет активное сотрудничество. Впечатляет размах, как там все происходит. В Китае существует своя система мегагрантов, схожая с нашей. Мы начали в 2010 году, но китайцы начали раньше. Они стали своих, китайцев, в основном из Америки, наиболее успешных, привлекать и давать им большие лаборатории. Причем сразу, в отличие от наших первых мегагрантов, это были не трех-четырехлетние проекты, а фактически постоянные. Вернулись очень многие из достаточно утвердившихся ученых, которые создали свои центры.
В России очень много центров, где занимаются сверхпроводниками. Боюсь, все не перечислить. Физтех, МГУ, безусловно, Черноголовка, МИФИ, МИСиС, Педагогический институт, Бауманка, Сколково… Это только Москва. Санкт-Петербург, это ИТМО. Дальше, если двигаться по географии, — Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Красноярск, Владивосток… Практически во всех крупных научных центрах страны. Где-то больше уклон в технологии, где-то больше в теорию, но вообще география широкая.
— Вы дважды выиграли мегагрант в России. Расскажите, пожалуйста, как вам это удалось?
— Я оказался в очень выигрышной ситуации, потому что, переехав в Нидерланды в середине 90-х, я не прервал свои контакты в России. Я продолжал сотрудничать с Валерием Рязановым и Михаилом Труниным (ИФТТ, Черноголовка).
В начале 2000-х годов у Минобрнауки были небольшие гранты для групп под руководством приглашенных иностранных исследователей. Там были суммы 2–3 млн рублей. Мы подавались на конкурсы и успешно их выигрывали, скорее всего, за счет того, что показывали реальное сотрудничество. Я был не свадебный генерал, как частенько случалось с другими соискателями. Зовут больших ученых с Запада, которые на самом деле никогда не сотрудничали и, в общем-то, и не будут. Просто использовали их имя. Я знаю такие примеры, это не секрет. А в нашем случае нам удалось показать, что вот у нас совместные публикации, столько-то и столько-то, что вот как мы работаем… Наверное, это произвело благоприятное впечатление, потому что при подаче первой моей мегагрантовской заявки в 2013 году конкурс был очень большой. Там было тогда, по-моему, 1 к 40. Я видел список людей, которые подали заявку, и думал, что у меня нет шансов. А потом смотрю: они не прошли. Предполагаю, в основном потому, что они не показали свою связь с отечественной группой.
— Важнее было показать, на ваш взгляд, связь с группой — коллаборацию или идею?
— И то, и другое. Я думаю, что на тот момент, скорее всего, оценивалась именно реальная заинтересованность привлеченного, как называют, ведущего ученого, который действительно уже работал и будет работать с этой группой. Естественно, качество проекта — это тоже само собой.
Например, во втором моем мегагранте, который наша группа выиграла в этом году, как там баллы давались? Из сотни 40 баллов — за ведущего привлеченного ученого. И, по-моему, только 20 баллов за проект. Вот такая пропорция. Но, безусловно, нельзя было ни одного балла потерять. Мы взяли 100 из 100. Там были заявки, которые взяли 99,5, но не прошли. Была очень высокая конкуренция.
Я слышал от своих коллег, что, когда был объявлен первый мегагрант в 2010 году, были нарекания. Система конкурса была непрозрачная. Никто не понимал, как эти гранты раздаются. Я знал людей, которые подавались на грант и были очень недовольны. Считали, что выиграл явно более слабый заявитель, и так далее. Но вот уже со второго или третьего конкурса, думаю, все было действительно честно.
Я впервые участвовал в четвертом по счету конкурсе, который проходил в 2013 году. До этого меня два раза привлекали в качестве эксперта. Я уже видел критерии, я понимал, как зарабатываются баллы и за что. Мне это очень помогло, когда я, так сказать, перешел по другую сторону баррикад.
На каждую заявку приходилось шесть экспертов, причем три из них были иностранцы. Сейчас, по-моему, уже только российские ученые оценивают. Чтобы попасть в шорт-лист, надо было пройти практически без замечаний каждого из этих шести экспертов. Потом уже проект оценивает комиссия по грантам. Если там и есть какая-то возможность манипулирования, то все равно это уже будет конкурс проектов очень высокого качества, которые прошли серьезную научную экспертизу.

Фото Анастасия Каплина
— У вас на протяжении вашей научной карьеры менялась роль: то вы оцениваете проекты, то вы сами их выдвигаете?
— У всех ученых так. Сегодня я рецензент во многих журналах, и в Nature, и в Science, и в Physical Review Letters, и в данный момент я должен срочно написать несколько рецензий. А завтра я сам подам в журнал статью, и кто-то будет уже писать рецензию на мою работу.
— Когда вы оцениваете статьи, вы руководствуетесь чистой наукой или личностью, если она вам известна?
— Грань очень тонкая. Если я знаю автора или группу авторов, то, конечно, я уже заранее предрасположен в ту или иную сторону. Но я редко пишу совсем отрицательные рецензии. Просто помню фразу Алексея Алексеевича Абрикосова, которую я запомнил на всю жизнь. Он мне как-то рассказал, что написал рецензию на статью одного коллеги примерно так: я не против публикации, но она нанесет непоправимый ущерб репутации автора. Я тоже так считаю. Даже если ты видишь, что что-то возможно не совсем четко доказано, а рецензенту разобраться порой сложно, в конце концов пусть статья будет опубликована. История все расставит на свои места.
— Ваша область, особенно сейчас, когда она на таком подъеме, хотя еще и не раскрыла свой полный потенциал, все время требует новых рабочих рук и свежих голов. И не просто свежих голов, а людей с хорошим базисом и видением. Где берете таких?
— Нужно сказать, что на Физтехе (МФТИ) с этим проблем нет вообще. Сюда приходят самые талантливые. Они проходят через такое частое сито, а учиться здесь можно только хорошо.
Когда я работал в Нидерландах, с этим было труднее, но мне там тоже повезло. Меня сами студенты выбирали. Один из них — стал самым молодым профессором в 35 лет. Сейчас ему около 50. Он защищался у меня. Считаю, что дал ему хороший старт.
Второй студент такого же уровня будет защищаться в июне 2025-го. Это суперталантливый человек, и он тоже сам когда-то ко мне пришел и попросил быть его руководителем.
— На Физтехе такое количество лабораторий, что здесь должна быть очень высокая внутренняя конкуренция за студентов. Скорее всего, у вас есть какой-то хитрый план?
— То, что к нам приходят отличные студенты и в нужных количествах, во-первых, это большая заслуга Василия Столярова, который сейчас является директором Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ. Василий очень много работает над привлечением студентов.
Во-вторых, на Физтехе проводится курс лекций, который называется «Горизонты физики» на первом курсе. Это профориентация. У нас тоже был такой, когда я учился, он назывался «Введение в специальность». Приходят профессора и рассказывают студентам про свои направления. Потом тут же на первом курсе экскурсия по лабораториям. Поэтому на первом курсе студенты уже знают про наш центр. Тут главное показать им наше превосходное оборудование и идеи, заинтересовать их. Они же смотрят на все, оценивают свои перспективы, где они смогут работать и так далее.
В общем, идет перетягивание канатов между разными кафедрами. Два года назад в нашем Центре появилась новая кафедра, совместная с институтом Духова (Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова, ФГУП «ВНИИА». — ред.). На этой кафедре большой набор. Мы туда часть студентов перетянули даже от дружественных лабораторий. Видите, какая идет борьба.
— Выпускников других вузов рассматриваете или вы патриот Физтеха?
— Я, конечно, рассматриваю. Вообще-то я сам заканчивал МИСиС. За последние годы мы организовали несколько школ для молодых ученых, которые объединили молодежь не только на территории Физтеха, но и в Питере, в Казани и на Байкале. К нам в магистратуру приходят ребята из МИФИ и МИСиС.
— Можно ли влияние санкций на нашу науку сравнить с 90-ми, когда у нас не было «железа» и поэтому случился взрыв программирования?
— Санкции, конечно, создают много проблем, именно с железом (оборудованием) в первую очередь, но я бы не стал проводить такую аналогию. Я понимаю, что тогда в программировании ограничения стимулировали людей больше думать. Сейчас, я думаю, конечно же, нужно хорошее железо, нужно искать, где его покупать, и есть разные каналы.
Вторая проблема — обмен уменьшается. Это касается конференций. Кроме того, некоторые журналы уже не принимают статьи из российских организаций. Но люди выходят из положения. Есть международные конференции, где нашим ученым рады.
Очень большая хорошая конференция проходит в Турции, в Ликии. Там регулярно собирается около тысячи человек. Я даже один из ее организаторов. В конце апреля 2025-го будет очередная, и туда россияне едут, и очень приветствуются. Российская наука там очень ценится, и никаких санкций там и близко нет.
Российская наука также очень ценится в Китае, где у нас уже есть устойчивые связи, совместные школы и проекты.
В целом в сложившейся ситуации есть проблемы, но они решаются. Я не вижу прямой аналогии с 90-ми. Сейчас другая ситуация, с моей точки зрения.
— До санкций картина мира выглядела так, будто бы весь мир жил одной большой дружной научной семьей, а после санкций кого-то выставили за дверь. Но на самом деле, если говорить без обиняков, были же исследования, которые политкорректно называются двойного назначения, а если совсем прямо, то те, которые работали на обороноспособность любой страны. Скорее всего, были исследования, которые не публиковались в журналах с широким доступом? И, собственно, то, что сейчас называется санкциями, это только гуманитарная часть всей истории?
— Наверняка такие исследования были, но я, честно говоря, не имел доступа к этому. Единственный раз, возможно, когда я только приехал в Нидерланды. Это был проект, связанный с рентгеновскими детекторами, которые запускались для космических экспериментов в Центре космических исследований (European Space Agency). Речь шла о фундаментальных исследованиях, но они были полузакрытыми. Двойное значение или нет, но, по крайней мере, я подписывал соглашение о неразглашении. Это был единственный мой опыт такого рода. А так, конечно, есть ядерные технологии и в России, и в Нидерландах, и во Франции. Там наверняка масса закрытой тематики.
Санкции касаются только открытых тематик, закрытые тематики все как держали закрытыми, так и держат. Я сам на 99% в течение всей своей карьеры был вовлечен в открытые.
Кстати, могу привести такой один пример. В начале 90-х, когда, казалось бы, у России была дружба с Америкой, но несмотря на это, у многих были проблемы с получением визы. Есть такая конференция Applied Superconductivity, которая регулярно проводится в США. И вот если человек писал в анкете либо «квант», либо «сверхпроводимость», то ему могли отказать в визе. Почему? Да потому что он мог какие-то там секреты вывезти оттуда в Россию. Один из моих коллег рассказывал, как ему однажды дали визу, но через неделю после окончания конференции. Просто затянули процесс.
— Как вы попали на Физтех? Чем конкретно здесь занимаетесь? Какие исследования ведете?
— Я заведующий лабораторией топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах на Физтехе, а также выходец из университета Твенте, Нидерланды, в котором я работал около 30 лет, с середины 90-х.
Окончил я Институт стали и сплавов. Мне очень повезло, что я попал на кафедру теоретической физики, которой руководил будущий Нобелевский лауреат Алексей Абрикосов. Окончив институт, по распределению я поехал в Черноголовку, в лабораторию сверхпроводимости. Руководил ею Вадим Васильевич Шмидт, тоже замечательный физик и очень интересный человек.
— Можно сказать, что ваша судьба определилась такой случайностью, что вы попали на кафедру к Абрикосову?
— Случайности есть всегда, но к науке я все-таки осознанно шел. Я знал, что в Институте стали и сплавов есть факультет теоретической физики. Я еще в школе начитался научно-популярных книжек и много ездил по физ-мат олимпиадам. Очень четкого представления о предмете у меня не было, но я понял, что мне нравится теория. И с математикой у меня всегда было хорошо. Мне нравились какие-то модели, точные решения, как их к чему-то применить…
Затем с орбиты МИСиСа я выпрыгнул, потому что мой научный руководитель, он же сотрудник этой кафедры, Вадим Васильевич Шмидт в то же самое время был заведующим лабораторией в Черноголовке в ИФТТ (Институте физики твердого тела РАН). Собственно, он мне и предложил туда пойти. Я не мог остаться в МИСиСе на кафедре формально, так как у меня не было московской прописки. Абрикосов тогда сказал: вам надо или срочно жениться на москвичке или ехать в Черноголовку. У меня была невеста, моя одноклассница из Гомеля, поэтому я предпочел второй вариант. Я попал в Черноголовку, но с МИСиСом у меня остаются контакты и по сей день. Сейчас у нас даже есть совместный проект.
Институт физики твердого тела, куда меня распределили, в то время был уникальным местом. Можно было прийти, например, на семинар в пятницу утром, а там все светила — академики Мигдал, Элиашберг, Горьков, Халатников. Можно добавить еще десяток фамилий.
Я занимался теоретическими аспектами сверхпроводимости, в частности микро- и наноструктурами, то, что сейчас называют гибридными сверхпроводниковыми системами. Защитил диссертацию в 1987 году. Это была очень хорошая школа. Моя карьера сложилась там. И тематика моя тоже сложилась там.
В 1990 году, как раз благодаря перестройке, у меня появилась возможность ездить работать за границу. Впервые я поехал постдоком в замечательный университет города Аахена в Германии. Это Rhein Westfälische Technische Hochschule (RWTH). Там я провел почти два года, но на тот момент у меня не было планов совсем уезжать из России. Я вернулся снова в Черноголовку, а потом, в течение следующих пяти-шести лет моя карьера складывалась мозаично. Я уезжал на несколько месяцев, потом возвращался, потом опять уезжал и опять возвращался. Вся середина 90-х у меня прошла в таких разъездах. Вот тогда я и познакомился с университетом Твенте. Они сами на меня вышли, и туда начиная с 93-го года я приезжал как визитер на несколько месяцев в году. У нас возникли прочные контакты, совместные публикации, и уже в начале 97-го я туда переехал, так как мне предложили постоянную позицию.
Тогда я совершенно нигде ничего не преподавал, а занимался только исследованиями. Со студентами я дел не имел, только с аспирантами, с которыми мы делали совместные исследования. Именно в Твенте я начал преподавать, причем не сразу. Первые несколько лет работал над проектами. В частности, это был уже упомянутый проект в европейском Центре космических исследований, связанный c моделированием сверхпроводниковых детекторов. Преподавать я начал в 2003-м. Тогда я и пришел на профессорскую должность, и уже никуда потом не уезжал из университета Твенте до нынешнего года, когда я перебрался на Физтех.
— Слушаю вас и кажется, что ученые-исследователи передвигаются по миру, как артисты или свободные художники, нигде не пуская корни.
— Согласен, возможно, со стороны это так и выглядит. Физики — отчасти свободные художники. Есть люди, которые более жестко привязаны к определенному месту и практически не путешествуют. Но есть большая категория людей, которые вот так переезжают. При этом у них, как правило, есть постоянная аффилиация, но при этом есть определенная свобода провести некоторое время, один семестр или меньше, в каком-то другом институте.
В области теоретической физики есть ряд международных центров, например центр теоретической физики в Триесте, а также недавно созданный в МФТИ Центр имени Абрикосова, куда приезжают люди на длительные семинары и воркшопы, которые длятся от двух недель до месяца. Так возникают временные коллаборации. Но при этом, все же, как правило, у человека есть постоянное место работы.
Сейчас я уже выступаю в роли приглашающего. Вот у меня есть грант, на который можно купить прибор, а можно купить мозги. Я профессор университета, и есть возможность нанимать временный персонал для выполнения определенных исследований. Это могут быть длинные контракты, скажем, на год, два, три, а могут быть и на несколько месяцев. Допустим, сделать определенный эксперимент для законченного исследования. Работа над совместной теоретической статьей или разработка модели занимает от месяца до нескольких лет. Все это проектные деньги.

Фото Анастасия Каплина
— Вы сами широко пользовались такими возможностями? За свою карьеру вам довелось много путешествовать?
— Очень много, да. В основном это были конференции и короткие визиты. Вот, скажем, в Японию я ездил начиная с 2001 года практически каждый год, до пандемии обычно минимум на неделю или две, не дольше. У нас сложилась устойчивая коллаборация с университетом города Нагоя. Потом был перерыв, потом был ковид, и вот возникла пауза.
Про Германию я уже упоминал. Удалось побывать в Италии, Испании, Франции. В Австралию на конференцию судьба заносила. Много раз бывал в Америке, конечно. Я практически каждый год, уже до недавнего времени, ездил в Аргонскую лабораторию. Это неподалеку от Чикаго, там долго работал Абрикосов. Там много моих коллег. Сейчас же везде есть наши русские коллеги, и в Америке тоже, конечно. Многие из них поддерживали контакты и организовывали серии традиционных конференций в Аргоне. Как правило, это такие двух-трехнедельные воркшопы. В Бразилии один раз был, в городе Наталь.
— Чем вы занимаетесь сейчас?
— Моя основная тема — гибридные системы, сверхпроводник плюс топологический изолятор и ферромагнетик. Там есть несколько компонентов. Мы изучаем эффекты, связанные с взаимодействием разного типа упорядочения. Существует некий антагонизм. Сверхпроводник любит, когда электроны образуют пары с антипараллельными спинами, а ферромагнетик наоборот. Там все поляризовано.
С топологическим изолятором все еще интереснее. В нем спин связан с направлением движения. На стыке этих вещей я, в частности, теоретически изучаю всевозможные новые эффекты. Кроме того, это физика новых сверхпроводников, конкретно, в двумерных системах. Последнее время моя работа все больше связана с экспериментами.
С самого начала работы в Черноголовке меня учили, что надо работать с экспериментаторами. Так и получилось. Все мои самые цитируемые статьи были совместными с экспериментаторами. Сейчас так и продолжается. Сегодня мой коллега по Физтеху — Василий Столяров, который как никто умеет ставить эксперимент. Вначале мы обсуждаем идею, а потом, когда уже какие-то результаты появляются, обсуждаем результаты. Что получилось? Как это интерпретировать?
— Сегодня фундаментальная наука представляется как союз трех составляющих: теории, математических моделей и эксперимента. За последние 35–40 лет как изменился вес каждой из составляющих в этом союзе?
— Начну с теории. Всегда было два типа теорий. И 40 лет назад, и сейчас есть так называемые феноменологические теории, которые не основаны на очень сложном математическом аппарате. Они доступны многим экспериментаторам, которые могут эти результаты воспроизвести и понять. Типичный пример — теория Гинзбурга — Ландау, которая появилась в начале 50-х годов. Такого типа модели очень приветствуются. Я тоже стараюсь делать как можно более простые вещи, чтобы они были понятны.
Однако есть класс теоретиков, которые прямо-таки влюбляются в сложные расчеты. Иногда приходится их результаты переводить на доступный язык. Мне тоже иногда так приходится делать для наших студентов. Бывает, они открывают теоретическую статью, а авторы там такого насчитали, но ничего не понятно. Одни значки. А что за ними стоит, за этими формулами? У меня все-таки накопился уже опыт, но даже я не всегда способен разобраться, что же за этими формулами стоит и как перейти на простой язык.
Если же говорить о математическом моделировании, то да, оно сейчас имеет большое значение. Конечно, его роль выросла. Моделирование стало легче и доступнее. Появились пакеты программ, благодаря которым даже не очень подготовленный и не имеющий глубоких теоретических знаний студент может программировать. Сейчас многие умеют это делать хорошо, причем на современных языках программирования. Он может эту программу запустить, и она будет вычислять, например, сложную электронную структуру изучаемого соединения. Допустим фотоэмиссию с угловым разрешением. Вот он картинку снял с прибора и может ее просчитать. Поэтому да, в таком смысле стало больше моделирования.
Сейчас на маленьком лэптопе, чуть ли не на мобильном телефоне, можно запустить программу, которую 20 лет назад даже и представить себе не могли. Любой студент, который задумался об эксперименте, может получить результат математически через софт, просто сгрузив туда модель. Он видит картинку, он может понять, что происходит. Он видит спектральные линии, уровень энергии… Он может заглянуть вглубь, понять, что он там увидел. Он не просто видит экспериментальную картинку на экране монитора, а как бы залезает внутрь. И соответственно проще сделать следующий шаг.
Или вот СТМ (сканирующий туннельный микроскоп). Там можно увидеть электронную структуру вплоть до атомного разрешения. Типичные картинки можно увидеть на стендах у нас в Лабораторном корпусе напротив моего офиса.
— Чем вы гордитесь из сделанного вами?
— Могу вот такой пример привести. История появления моей самой цитируемой статьи может стать поучительным случаем для молодежи. Начну я чуть-чуть издалека.
У теоретиков есть несколько типов работ. Есть тяжелое моделирование, компьютеры, сложные расчеты. Мы это уже обсуждали. На это может уходить очень много времени и ресурсов, а потом вот делаешь-делаешь такую работу, смотришь, а как-то на нее мало ссылаются. Не пошла, не зацепила. Может, тема неактуальна. В принципе, все правильно, но мало кому интересно. Со мной такое тоже бывало.
А бывает наоборот. Делаешь все вот прямо левой рукой, сходу, а статья тут же становится востребованной.
У меня такой случай был. Была совместная работа с экспериментаторами из Черноголовки. Там был описан новый эффект. Речь шла об инверторе сверхпроводящей фазы, что сейчас называют пи-контакт. Его надо было понять, и вот я сходу решил начать с самого простого — пусть это будет не совсем строго. Надо было сделать ряд приближений, но оставить самое существенное в этой задаче.
Весь расчет занял несколько часов, и получился результат, который все объяснил. Статья мгновенно была опубликована. У нее сейчас больше тысячи цитирований, это моя самая цитируемая статья. По затратам времени на нее ушло очень мало. Сразу же приходит мысль, надо ли много работать? Может, и непедагогично говорить такое студентам. Работать надо, конечно, много, но на стадии подготовки, расширения кругозора. А с другой стороны, это, возможно, тот самый случай, когда на стадии исследования не надо хвататься сразу за очень сложное. Всего лишь хорошо подумать, и вот тогда очень простые вещи дают больше результата или, скажем, больше славы. больше удовлетворения, больше выхода. Тем более когда там все просто и понятно и это легко объяснить.
Почему некоторые статьи цитируются плохо? Потому что они непонятны людям. Оттуда надо еще как-то вытащить физику из формул. А существует противоположный подход, как в моем случае. Для меня это предмет гордости.
При поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-571 и всемерной поддержке Физтех-Союза.

