Уже, пожалуй, ни для кого не секрет, что любой желающий может поучаствовать в серьезном научном проекте, не выходя из дома. Тысячи людей годами играют в «собирателей белков», и потом публикуют научные статьи в авторитетных научных журналах (подробнее об этом — в нашем материале о лауреатах Нобелевской премии по химии 2024 года). Другие открывают новые планеты у далёких звёзд. Сотни тысяч людей пополняют открытые базы флоры и фауны. Казалось бы, это всё хорошо и замечательно, но дальше-то что? О том, что, собственно, дальше, и зачем вообще заниматься развитием таких проектов системно, мы поговорили с Александрой Борисовой-Сале, редактором книги «Научное волонтёрство: делаем науку вместе».
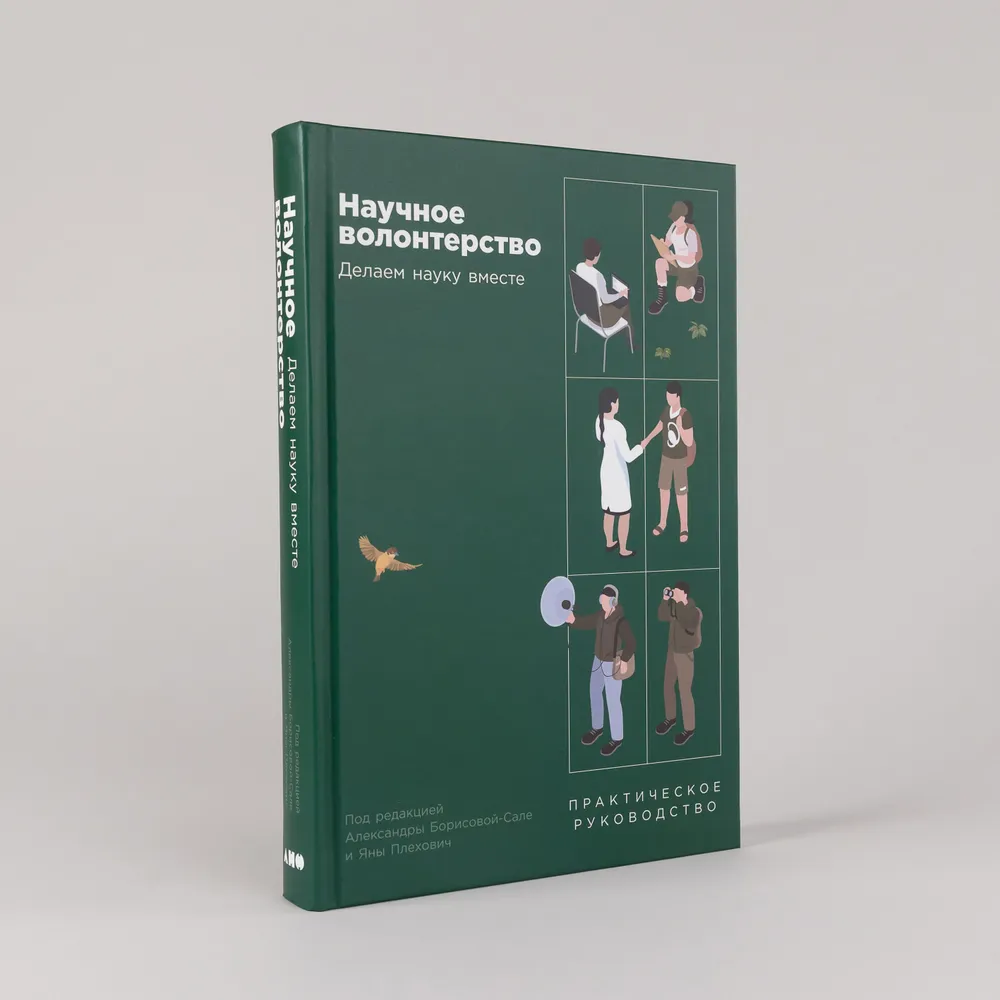
— Саша, я с тобой в последний раз о чём-то подобном разговаривали году так в 2021, наверное? Ты сказала тогда: мы тут провели исследование, и узнали, что научные журналисты в России есть, и это главное открытие нашего проекта. И вот теперь мы в 2025 году. Ты новых людей открыла?
— Нет, это немного другая история. Этих людей как раз не было, и мы их не то чтобы открывали, мы их немножко изобретали. В каком-то смысле, как и научных коммуникаторов в своё время. Точнее, людей сколько-то, конечно, было, но исчезающе мало (и это великие люди).
— Вы как газета «Коммерсант»? Которая, как принято говорить, изобрела свою аудиторию.
— Нет, у нас идеальный кейс того, как гражданское общество внедрило что-то. Вдохновилось теоретической базой и международным опытом, сделало пилотный проект и внедрило эту идею в общественную повестку: сначала в СМИ и сознание лиц, принимающих решение, а потом в нормативные документы. Это тот случай, когда мы прошли полный цикл, с нуля до строчки в Программе десятилетия науки и технологий.
— Погоди, стой, почему, а в чем идея-то заключалась? Это же не сейчас в России внезапно начали на науку волонтёрить. У нас же в анамнезе юннаты, кружки авиамоделирования и так далее.
— Я объясню. Отличие научного волонтёрства от школьных проектов — кстати, в книжке которую мы с тобой обсуждаем, в главе Константина Фурсова, это очень подробно разбирается — отличие от школьных проектов в том, что их участники тут не просто как-то приобщаются, они вносят свой реальный вклад в реальный научный проект.
— Да они его вносят точно так же, как и пятьдесят лет назад, просто сейчас телекоммуникации скакнули, поэтому ты эффективнее можешь включаться.
— И это верно. Но это не совсем то, что мы теперь называем научным волонтёрством или гражданской наукой. Люди и прежде так развлекались. Про это тоже есть в книжке, в одной из первых глав — про то, как в конце XIX века появились первые бёрдвотчеры.

1918 год. Бёрдвочеры
Фото: F. T. Bicknell / CC0
— Это да, в дореволюционной России метеорология вообще как офицерское хобби начиналась. А дальше Шанявский, Русское техническое общество, Общество распространения технических знаний, Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии… Там же вовсю просвещение росло.
— Да, да, в те времена на Руси научпоп был силен. Те же самые фестивали науки там были будь здоров. Я помню, как в самом начале нам об этом рассказывал классный социолог Даниил Александрович Александров, как дворянское хобби было еще связано с местным активизмом.
Поэтому и возник термин «гражданская наука», потому что она одной ногой стоит в науке и в принесении пользы науке, а второй ногой она стоит в гражданском активизме. Но в русском языке это словосочетание — омоним невоенной науки, поэтому после долгих исследований и обсуждений мы пришли к двойному термину: «научное волонтерство»/«гражданская наука».
— Эти просветители, которых я только что вспоминал, кстати, хорошо в качестве примера “гражданскости” подходят. Среди особенно активных членов этого Императорского общества любителей естествознания было немало таких детей государства, воспитанники Московского воспитательного дома. Там при нем потом техническое училище сделали, а потом оно университетом имени Баумана стало. И вот эти просветители, они зачастую либо из этого училища московского, либо такие персонажи, типа Анатолия Богданова. Он там незаконный сын, безродный, у него вот явно амбиции были, он по сумме заслуг дворянство получил. Я всё это к тому, что вот же, великая история, а ты мне как будто бы рассказываешь, что это всё на днях изобрели.
— Это великая история, прекрасная, но сколько осталось от этой великой истории к 2020-му, реально функционирующего? Насколько оно связано с наукой? В современных формах, в которых она в современном мире организована…
— Ну так, опять же, эта организация в современных формах, она же при нашей жизни происходила. Ну, типа Science Slam и все остальное. Они, конечно, свои родословные так глубоко не возводят…
— Научпоп прекрасно расцвел и развился, это всё начал фонд «Династия», а потом не фонд «Династия», а дальше мы все это знаем. Но если говорить в терминах социологии научной коммуникации, это все была коммуникация в самой простой модели — дефицита научных знаний. А научное волонтерство — это уже коммуникация в модели вовлечения. Вот ее мы и начали развивать системно, и именно как научные коммуникаторы: проект начала Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН). Это, кстати, не всегда так, что коммуникаторы выступают застрельщиками, об этом тоже в книге есть.

Члены Императорского русского технического общества. 1904 год
— Мне казалось, что нет особенной разницы между всеми этими практиками, что всё одно. В смысле, это всё одни и те же люди. Они что-то там читают про науку, что-то там иногда руками делают для неё, если есть такая возможность. Читают и любят научную фантастику. Такая идентичность, знаешь.
— Давай предметно. Для научных коммуникаторов гражданская наука — это инструмент научной коммуникации. Вообще гражданская наука прекрасна тем, что когда она правильно функционирует, когда проект правильно организован, то он многопрофильный: ты спрашиваешь у людей из каждого конкретного крыла, что такое научное волонтерство, каждый тянет одеяло на себя. Каждый говорит, что вот это в нем главное.
Люди из образования говорят — главное тут образование, то, что мы обучаем людей не по каким-то скучным книжкам, а вовлекая их в реальные проекты, и так они лучше образовываются. Люди из гражданского активизма говорят: главное в этом гражданский активизм. Мы собрались, поставили датчики черного неба — и это нас объединило. А ещё это позволит нам получать независимую информацию, чтобы дальше как-то повлиять на нашу жизнь, убедить в чём-то законодателей.
А ученые говорят, что главное — это наука. И показывают экономические эффекты научного волонтерства, что мы-де сэкономили столько-то человеко-часов, которые раньше тратили лаборанты, научные сотрудники ездили в какие-то экспедиции… А теперь нам граждане просто помогают.
Научные коммуникаторы говорят, что это научная коммуникация в модели вовлечения, когда люди сами непосредственно соприкасаются с пространством науки, и таким образом лучше в науку погружаются. Наконец, какие-нибудь законодатели, ну и вообще государство, скажет, что это инструмент построения доверия к науке в обществе, и научное волонтерство надо уже только для того строить, чтобы поднять доверие к науке в обществе и вовлекать простых граждан в принятие решений в сфере науки. Например, ЕС примерно так рассуждает и в этой рамке ее поддерживает. Сколько мы насчитали, пять стейкхолдеров? Образование, наука, гражданский активизм, государство, научком. Все считают, что его собственный компонент в этой сетевой инстанции самый важный, — и это прекрасно.
Конечно у идеального проекта в вакууме всё сбалансировано. Но у большей части реальных проектов какая-то из ветвей сильнее — просто по тому, кто его инициировал. В этом и отличие современного научного волонтерства от исторических инициатив. У них не было такой комплексной цели, они инициировались конкретными стейкхолдерами, которые не стремились к синергии. Не было общего движения и инфраструктуры. Там было больше доминирования от одного стейкхолдера, будь то образование, активизм или наука.
— То есть родство тут чисто генеалогическое.
— Да. С развитием технологий появилось больше возможности привлекать людей, да и в принципе с развитием науки как института, тратящего публичные средства, — возникла идея сделать такое движение, которое “кормило” бы всех пятерых. Во второй части книжки, которая про практику, как раз говорится про инструменты: как собрать свои проекты, как выбрать и увлекать аудиторию, как коммуницировать — как раз в этой рамке многосторонне полезного проекта.
Это очень мультидисциплинарная сфера — и чтобы ее развивать вот так комплексно, как раз и нужна такая интегрированная инфраструктура. Иначе люди из образования, например, будут испытывать сложности с формулировкой научной задачи и интеграции проекта в «большую науку» — потому что они не занимаются большой наукой, они занимаются образованием. А ученые будут испытывать проблемы с упаковкой задачи для волонтеров. А также с их поиском и так далее. Коммуникаторы, ясное дело, не тоже могут сформулировать научную задачу сами по себе, но они уже могут привлечь людей.
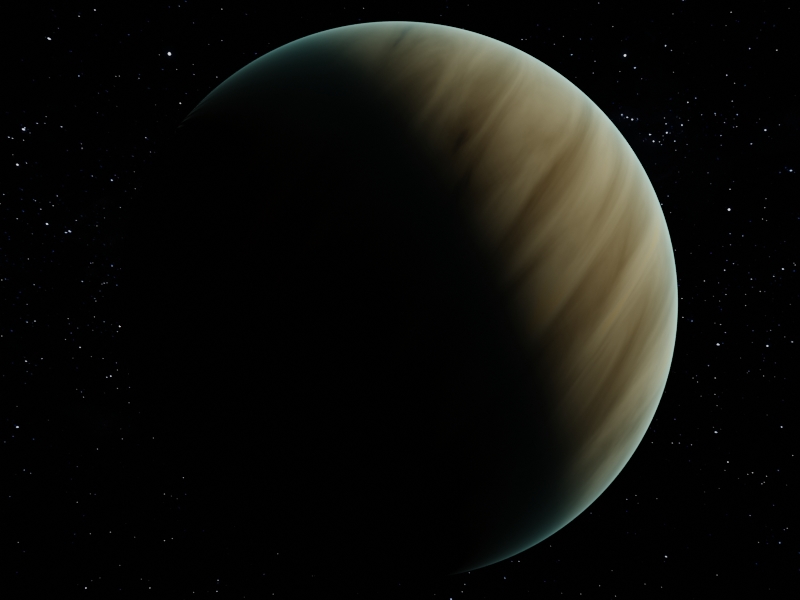
TOI-813 b — экзопланета, которую открыли участники проекта Planet Hunters
— Но началось все с журналистов? У «Кота Шрёдингера» была специальная рубрика, называлась «Своими руками»…
— Ну, рубрика в журнале это, всё-таки, рубрика в журнале. Журналисты же другими вещами занимаются. Они могут как-то поспрашивать и поискать, но журналисты не могут запустить сами, они могут только сагрегировать и дать какой-то голос. Они не могут податься на проект для граждан. Но есть журналисты, которые захотят большего. Альфия Максутова сделала статью на портале oLogy, заинтересовалась, вдохновилась и стала искать такие проекты, собственно. Об этом она подробно пишет в своей главе об истории “Людей науки”.
— Получается, Альфия выяснила, что эти люди существуют, что имеется как минимум аудитория.
— Это надо спрашивать у нее, но мне кажется, главное, что у нее была мечта. Она нашла какое-то количество этих людей, и для неё дальше это стало уже строительством мечты. То есть существовало n проектов научного волонтерства в стране. Которые себя так в основном и не называли, кроме разве что проекта «Флора России». Но она же на платформе iNaturalist работает, поэтому ассоциируется автоматически с этим широким международным движением, потому что это такая русская рука огромного международного iNaturalist. Эти проекты работали сами по себе, и мы — “мы” как АКСОН (Ассоциация Коммуникаторов в Сфере Образования и Науки) — этим людям не особенно были нужны. Они для поддержки и развития своего проекта достаточно знали и умели, а амбиции из этого сделать движение не было. Потому что в основном это были или ученые или педагоги, которые занимались, соответственно, своей наукой и своими образовательными проектами. У них не было этого вот этого видения, всей этой сети стейкхолдеров, у них были конкретные задачи, они их решали успешно, они страшно крутые.
А это “Люди науки” — это была мечта. Из первых принципов показать, как это работает. Да и просто так вот ждать, когда люди сами себе всё запустят, это медленно. И потом интегрировать этих всех пятерых стейкхолдеров, это еще медленнее. Да и международный опыт подсказывает, что ты для таких целей делаешь какую-то платформу. И в разных странах это движение росло из разных сообществ. Где-то больше развиты какие-то натуралисты: вот, в Италии это растет из Национального парка, там люди им помогают.
— А, и Помпеи, наверное? Это же огромный проект, целый город раскапывать. Уже который век люди работают.
— Нет, не с них все началось. Ездить в археологические экспедиции волонтёром — это известная практика, но это не научное волонтёрство в современном смысле. Это не те проекты, на которых ты можешь выстроить движение, потому что они ограничены числом людей. Это небольшая группа высоко мотивированных, высоко компетентных волонтеров, да. Но современное научное волонтерство — оно вообще стало возможно почему? Потому что ты можешь им заниматься, не вставая из-за домашнего компьютера. Ну или буквально выйдя во двор из дома. То есть не ты едешь куда-то копать — более того, именно в том, где ты уже находишься, изначально твоя сила, а не твоя слабость. Археологам надо своего волонтёра еще переместить куда-то. А во «Флоре России» наоборот, им нужны волонтеры, которые живут в самых разных и далёких географических точках, и оттуда могут передать данные.
— А, то есть вы не зонтиком для «Флоры» и прочих стали, а рядом с ними выросли?
— Ну, мы стали зонтиком, но не только для тех, кто уже прекрасно живёт и развивается. Их мы приглашали как экспертов много. Мы сказали, что совершенно точно есть больше людей и больше задач, чем Альфия нашла.
— И мы сейчас на поток это поставим.
— Да, и мы сначала пойдем в ведущие университеты, там будем через коммуникаторов — так, давай тут сначала скажем, почему появился на арене АКСОН и коммуникаторы. Потому что, во-первых, ассоциация – это инфраструктура всероссийская, а сами коммуникаторы это очень активное живое сообщество, через которое можно на ученых выходить. Ведь это люди, которые в своих университетах знают своих ученых. Так что на первой стадии ты рассказываешь это коммуникаторам, на конференции АКСОНа, а на второй стадии кто-то из них общается со своими учеными и смотрит, кто чем-то похожим занимается, кто пытается у себя это как-то организовать. А мы в это время накапываем и накапливаем методологическую базу, пишем дискуссионный доклад силами дружественных социологов, готовим этический кодекс волонтера… То есть мы ставим инфраструктуру, которая могла бы помочь людям, у которых есть пока только идея, и они вообще не знают, куда сунуться. И дальше помогаем им со всем: волонтеров помогаем искать, формулировать проект. А людей, которые уже в этом преуспели, мы позвали в экспертные советы, на конференции и мастер-классы. Опирались, таким образом, на их опыт и предлагали его изучать и масштабировать. Мы им очень благодарны, за то что они к этому всему подключились.
В итоге это теперь попало в Программу десятилетия науки и технологий. В идеале, конечно, надо бы, чтобы еще были гранты, которые отдельно бы выделялись на проекты с участием волонтеров.
— Ага, то есть вы ко всему этому движу прикрутили еще и какой-то интерфейс взаимодействия с государством.
— Ну, первый шаг это вообще информирование, когда ты просто приходишь в условный РНФ, министерство или АП и говоришь — такая штука есть, это круто. Объясняешь, почему круто. То есть даже если они еще не выделили куда-то деньги, то когда с чем-то подобным столкнутся, то вместо того, чтобы недоумевать или ругаться, у них наоборот возникает мысль “О, это крутые ребята, я про таких слышал, это важно и современно!”
Я уже постфактум пыталась осмыслить, как какие-то новые вещи внедряются в мейнстрим? Кажется, начало — теоретическая база: социология, история, экономика. Например, есть данные, что научное волонтерство в США — это бешеные миллионы долларов сэкономленного бюджета. Дальше есть международный практический опыт: как это организовано у других людей? Следующий этап: условное гражданское общество в виде энтузиастов подает заявку на грант (у нас это был Фонд президентских грантов) и запускает то, что называют “национальной платформой”. По сути это пилотный проект, конечно, по-настоящему национальной платформы мы не стали, потому что там не было физически достаточно много людей. Но для нее была сделана вся инфраструктура, совершенно работающая.
— А, и это дальше масштабировать уже можно.
— Да. И параллельно мы ведём кампанию в прессе, везде, где можем дотянуться — Форбс, “Вести”, РГ, Republic, региональные СМИ, весь научпоп и кстати — в журнале “За науку”! В какой-то момент блогер Руслан Усачев чуть не обрушил нам платформу от того, сколько людей от него пришли— но это не наши заслуги, это он сам подхватил, потому что ему просто понравилось (лишнее подтверждение того, что мы сделали классное дело). Мы к тому времени даже и не заходили в какие то именно массовые вещи для привлечения людей, потому что мы не были уверены, что технически готовы. На том этапе медиакоммуникации нужны были не столько для вовлечения волонтеров (для этого использовались более точечные механизмы), а для policy-making вообще. Можно открыть Яндекс.Новости с сортировкой по дате и увидеть резкий скачок со стартом нашего проекта: в 2021 году это уже не несколько статей в «Коте» и oLogy, а десятки, если не сотни (с перепечатками) материалов.
— Да, они мне оскомину набили, я помню что вас проклинал за глаза.
— Мы всех, конечно, заколебали этим научным волонтерством. Но вот же оно, работает. У нас есть часть в книжке, которая называется «Истории умелых», люди рассказывают свои кейсы, и они успешные и продолжающиеся, несмотря на то, что нашу платформу пришлось заморозить. Кто-то скажет, что плохо то, что это попало в индикаторы и оно стало обязаловкой. Я с этим не согласна. Любую задачу можно сделать плохо или хорошо, но задача наша была в том, чтоб те, кто хотели делать волонтерские проекты, находили понимание и поддержку у руководства. А руководство понимает индикаторы, так оно устроено. Гражданская наука кстати уже какое-то время в индикаторах по европейским проектам.
— Методичка-то все равно ваша, они будут ей пользоваться, поэтому может что-то и получится. Это уже от методички зависит. Сейчас мы еще три года подождем, посмотрим, заживёт оно или нет, и как.
— Мне кажется, оно уже существует, живёт, не надо ждать. И книжка – это важная история, которая этот факт закрепляет. Вот, например, ко мне в обратную связь на моём личном сайте приходят люди из тамбовской библиотеки и пишут, пришлите нам книжку. Это настолько трогательно, что ты думаешь: вот для этого, в принципе, я всё и делала. И этим очень горжусь и надеюсь, что это тот фарш, который реально невозможно провернуть назад.
— Ты так говоришь, как будто ты с этим расстаешься, и я у тебя отберу всех научных волонтёров. Но я ничем таким не занимаюсь.
— Нет, это я просто этим уже не занимаюсь, и Альфия тоже, и большая часть команды проекта. Но я рада, что мне удалось в этом поучаствовать, и очень благодарна Григорию Тарасевичу, который вообще главный в этом всем, потому что он познакомил нас с Альфией познакомил. Он визионер — просто в какой-то момент пришел и прямо сказал: я тебя познакомлю с Альфией, вам надо, вам будет хорошо вместе, сделаете научное волонтерство. Так что официальный крестный отец проекта «Люди науки» — он. И это – навсегда!

