Базис Грёбнера — важный объект в области компьютерной алгебры и алгебраической геометрии. Само понятие ввёл в оборот австриец Бруно Бухбергер, который придумал алгоритм его построения. Сегодня в научной литературе оно всё чаще фигурирует под именем «базис Грёбнера — Ширшова». О том, как два незнакомых друг другу математика в итоге оказались со-открывателями одного и того же математического объекта, и какую роль в этом сыграли их ученики, рассказывает Мария Роговая.
75 лет назад, в 1950-м году, на кафедру алгебры Московского государственного университета вошел молодой мужчина. Его решение задачи по многочленам попало в руки заведующему кафедры Александру Курошу, и тот пригласил его поступать в аспирантуру. Это было необычно: не каждый выпускник МГУ удостаивался такого приглашения, что уж говорить о заочнике из пединститута. Экзамены гость сдал, и Курош дал ему задачу — разобраться, всякая ли подалгебра свободной алгебры Ли, в свою очередь, является свободной. Новоиспеченный аспирант исчез почти на год, а вернувшись, принёс с собой кипу бумаг — с решением. Как потом шутили коллеги, в тот день алгебра стала свободной.

Анатолий Ширшов
Так на математическом небосклоне ученых появилась звезда Анатолия Ширшова: учёного, который внес решающий вклад в создание одного из актуальных направлений современной алгебры — теории колец, близких к ассоциативным. Сегодня в Институте математики имени Соболева СО РАН работает уже третье поколение учеников Ширшова. Математик приехал в Сибирь в 1960-м году, по приглашению директора института — Сергея Львовича Соболева. До этого он работал в МГУ заместителем Андрея Колмогорова, декана математического факультета.
На 50-летие коллеги подарили Ширшову его статуэтку — со зданием института на плечах. Когда люди «сверху» приходили к нему с просьбой пристроить сотрудника, он никогда не спорил, лишь просил выделить на такую важную персону дополнительную ставку: «Не переживайте, Сергей Львович, — говорил он в такие моменты Соболеву. — Со временем мы его уволим, зато на новую ставку сможем потом взять толкового выпускника». Такие теперь и работают в ИМ СО РАН по научному направлению, которым занимался Ширшов. Максим Гончаров и Всеволод Губарев преподают студентам основы алгебр Ли и того самого метода базисов Грёбнера — Ширшова, который был создан в этих стенах.
Траектории полета
Ширшов приехал в Сибирь не как «варяг» из Москвы, а напротив, вернулся на родину, став доктором наук. Здесь он родился в 1921-м году, в глухом таежном поселке Баксинской волости, состоявшем из одной улицы с двумя рядами домов. До города далеко — десятки километров по просеке сквозь сплошь тёмный, непроходимый лес, “только в небо дыра”. Ширшов окончил среднюю школу в Алейске Алтайского края, поступил в Томский университет, но вскоре перевёлся на заочное и вернулся в Алейск — работать в школе учителем математики, физики, химии и черчения. В маленьком посёлке все друг друга знали, какие-то из учеников были его ровесниками. В школе к нему обращались на «вы», а на улице — «Толя». Авторитету учителя это ничуть не мешало. Теперь имя Анатолия Ширшова в Алейске носит одна из улиц.
На Ширшовские чтения к 80-летию со дня его рождения в Алейск летели телеграммы из Бразилии, Аргентины, Тайваня, Сингапура — от учеников. Сотрудники отдела теории колец в Институте математики в Новосибирске преподают в университетах России, Новой Зеландии, Мексики, Канады, Израиля. Один из его учеников, Ефим Зельманов, — лауреат премии Филдса (1994), а другой, Иван Шестаков, — премии Мура (2007). Монография Ширшова «Кольца, близкие к ассоциативным», переведена на несколько языков и давно стала настольной книгой алгебраистов.
— Знаете, эта книга внесла очень важный вклад в развитие и пропаганду теории неассоциативных колец, а базис Грёбнера — Ширшова это просто универсальный востребованный метод, всего лишь эпизод в его деятельности, — говорит профессор Университета Сан Паулу Иван Шестаков. — Случается, что широкая известность приходит не за самый существенный вклад, а за самый популярный труд. В научных кругах Анатолия Илларионовича Ширшова ценят не только за базис. Он сам считал этот результат проходным, а больше ценил совсем другие результаты. Существенным достижением в науке стала его теория алгебр с полиномиальными тождествами — знаменитая теорема о высоте, его глубокие результаты в теории альтернативных и йордановых алгебрах. Анатолий Илларионович читал нам лекции на 1-2 курсах. Небольшого роста, худощавый и сдержанный, он читал без бумажки и был крайне немногословен. По его лекциям без предварительной редактуры можно было публиковать готовый учебник. В ИМ имени С.Л.Соболева СО РАН до сих пор работает семинар его имени по теории колец.

Иван Шестаков (в свитере), справа — Анатолий Ширшов
— Мой учитель был одним из основателей комбинаторной алгебры, — говорит профессор Университета Калифорнии Ефим Зельманов. — В то же время в математике он был немного левшой. У всех математиков можно понять, из чего выросли их работы. Например, мои работы, вне всякого сомнения, идут от его трудов. А у него они были очень оригинальные, возможно, потому что он, по сути, был самоучкой. И хотя мы немного общались, он оказал на меня огромное влияние и как ученый, и как человек. Его присутствие в отделе ощущалось даже, когда он уже болел и почти не появлялся. Я остро чувствовал его отношение и ход мыслей. У него были огромные этические ожидания от людей — всё по гамбургскому счёту. Мы все его ученики знали, что хорошо, а что плохо. В иных ситуациях я наблюдаю за происходящим и думаю «Ширшова на тебя нет». Думаю, что и сейчас в любой ситуации я могу предположить, как бы реагировал Ширшов, и для меня это очень важно. Например, он был бы категорически против погони за наукометрическими показателями, когда одну статью разбивают на части, чтобы сделать из неё три публикации. Уверен, он бы тяжело переживал современное отношение к науке в стране и отьезды своих учеников за границу.
Математических «потомков» у Анатолия Ширшова — то есть учеников и учеников учеников — уже больше полутора сотен. Но мировая слава, как это часто бывает, пришла к ученому уже после его смерти. Открытие, всё-таки, нужно не только сделать, но и подробнейшим образом описать. А Ширшов, описав случай лиевских алгебр, не стал касаться остальных. Возможно, было жалко времени, которого и так слишком много отняла война.
На фронт Ширшов ушёл в 1942 году, взяв с собой “Теорию чисел” Игоря Арнольда, которую ему подарила старушка-библиотекарь. Воевал в составе 6-го стрелкового корпуса добровольцев-сибиряков на Западном, Калининском и 2-м Белорусском фронтах. Был шофёром авиационного полка и гвардии рядовым, дошёл до Германии.
В эти же годы по другую сторону фронта работал австрийский математик Вольфганг Грёбнер. Он был старше Анатолия Ширшова на 22 года, успел повоевать ещё в Первой мировой. А во время Второй мировой австриец возглавлял промышленную группу по математике отделения Авиационного научно-исследовательского института Германа Геринга в Брауншвейге, работавшего в интересах Люфтваффе. Рассчитывал вероятности попадания пулеметных пуль и осколков ракет в воздушном бою, вычислял траектории полета и поражающую способность осколочных снарядов и пулеметного огня. Того самого огня, под которым уцелел Анатолий Ширшов.
Теперь же имена двух математиков, которые никогда не слышали друг о друге и даже воевали за противоположные стороны, носит широко востребованный сегодня математический метод. Этого добились ученики математиков.
Кто-нибудь сделает это совсем просто
После окончания войны оба математика вернулись к любимому делу — высшей алгебре. И практически одновременно задались вопросом, ответ на который лёг в основу одного из современных направлений коммутативной алгебры. Базис Грёбнера представляет собой множество, порождающее идеал заданного кольца многочленов и обладающее рядом замечательных свойств (определение, понятное только математикам, но другого, к сожалению, пока не придумали). Термин «базис Грёбнера» был введён в оборот в 1976 году в диссертации Бруно Бухбергера , ученика Грёбнера, который заложил основы теории еще в 1970-м.
«Профессор Вольфганг Грёбнер был моим научным руководителем в 1965 году, — вспоминает Бруно Бухбергер в одной из своих статей. — Он дал мне задачу найти линейно независимый базис для кольца вычетов по модулю произвольного полиномиального идеала. В поисках ответа на этот вопрос я разработал теорию того, что позже, в 1976 году назвал в честь моего бывшего руководителя «базисами Грёбнера»».
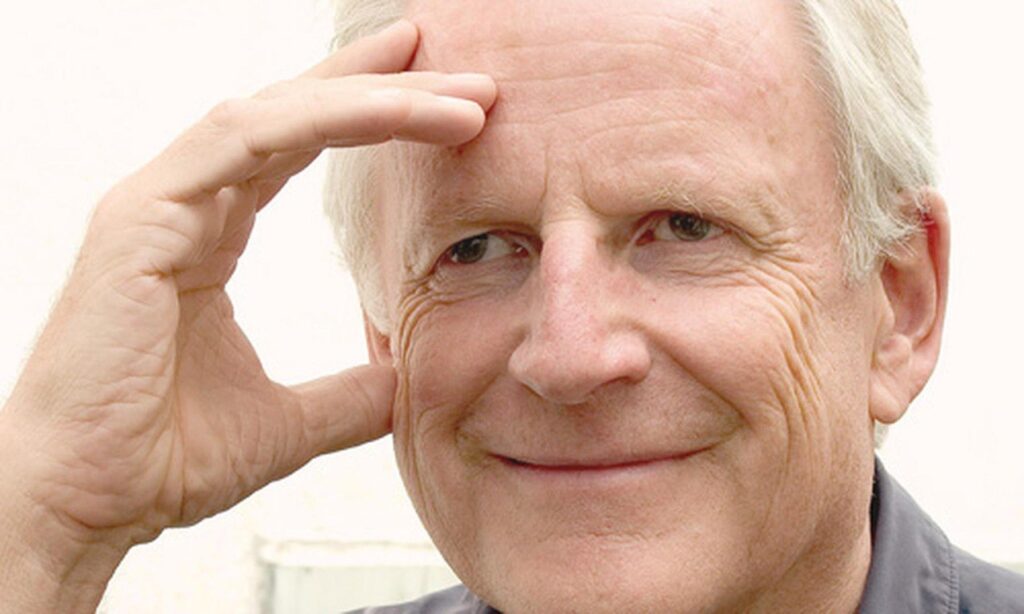
Бруно Бухбергер
С «базисами Ширшова» получилось примерно так же. В 1962 году Ширшов описал построение того, что сейчас называется базисами Грёбнера — Ширшова, для алгебр Ли, не посчитав нужным пояснить построение таких базисов в ассоциативном и коммутативном случаях. Позже это сделал его ученик Леонид Бокуть, когда понял, что учителю неинтересно описывать свой метод в более общем виде.
«Ширшов говорил мне: «Приятно получить результат с помощью прямых вычислений, но иногда бывает полезно и подумать! — вспоминает Бокуть, — А вы не боитесь, что кто-нибудь сделает это совсем просто?» Я пользовался методом Ширшова с 1962 года, с самого начала его возникновения. В двух своих работах я переизложил его: для алгебр Ли в 1972 году и для коммутативных ассоциативных алгебр в 1976-м. Меня не раз приглашали с лекциями о научных трудах Ширшова во Францию, но в те годы я, как и большинство советских ученых, не мог ездить в Европу с выступлениями».
Именно Бокуть ввёл в оборот термин «базисы Грёбнера — Ширшова» применительно к произвольной алгебраической системе. Бокуть и Бухбергер работали независимо, контакт установился позже, когда последний начал ездить в СССР, а позже — в Россию. Австриец пропагандировал программирование и считал, что язык математики и язык программирования имеют одну природу — программист должен объяснить «железяке», что делать, а математик должен доступно доказать свою теорему, чтобы все увидели, как она работает. Все новые знания, делал вывод Бухбергер, получаются только двумя методами — методом ясного мышления и методом доступного объяснения.
На Западе работ Ширшова и Бокутя в 1960-70-е годы не читали. В 1970-х термин «базис Грёбнера» прочно ввёл в научный обиход Бруно Бухбергер. Когда началась перестройка и рухнул железный занавес, термин за рубежом за 20 лет уже устоялся и поменять его для всего научного сообщества было не так-то просто.
Путь через Китай
«До 1998 года Леонид Аркадьевич [Бокуть] преподавал в НГУ базисы Грёбнера — Ширшова, не особенно переживая, что весь научный мир не упоминает в названии метода фамилию его учителя, – рассказывает Павел Колесников, заведующий Лабораторией теории колец ИМ СО РАН. — Но со временем это обстоятельство стало всё сильнее его печалить. В 2000-м году на научной конференции в Южной Корее Ефим Зельманов подсказал Леониду Аркадьевичу, что для восстановления справедливости необходимо опубликовать как можно больше интересных научных статей в математических журналах с использованием термина «базис Грёбнера — Ширшова». Так термин со временем будет принят. Уже тогда Китай активно развивал науку, вкладывал в неё большие средства, строил университеты и создавал крупные научные центры. За считанные годы на месте пыльных пустырей с малоэтажными постройками выросли современные кампусы. С одним из них, Южно-китайским педагогическим университетом в Гуанчжоу Леонид Аркадьевич и подписал контракт, став одним из организаторов Южно-китайского центра вычислительной алгебры.
Бокуть проработал в Гуанчжоу 10 лет. Благодаря этому в научной литературе появилось почти полтысячи упоминаний базисов Грёбнера — Ширшова. Международный классификатор направлений современной математики (MSC) Американского математического общества в 2020 году включил в обновленную классификацию два отдельных направления по их исследованию — уже под двойным именем. Сегодня это высоко востребованная область бурно развивающейся компьютерной алгебры. Они применяются везде, где для вычислений используются алгебраические уравнения: в криптографии, комбинаторике, даже в теории графов. Сам Ширшов объяснял студентам область своей деятельности так: «На наших глазах происходит все более глубокое взаимопроникновение классических направлений математики: геометрии, алгебры и анализа. Это помогает делать открытия в смежных науках, используя уравнения, не поддающиеся точному решению».
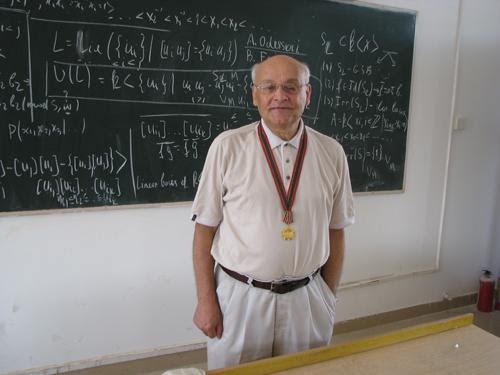
Леонид Бокуть
Сегодня китайские студенты демонстрируют повышенное внимание к лектору. Лекции профессора Бокутя на летней Международной алгебраической школе в ИМ СО РАН со стороны напоминают выступление великого гуру: слушатели из четырех университетов Китая молчат, тщательно конспектируют, задают вопросы.
«Важно не путать этот комплекс знаний со школьной и университетской классической базой, — говорит Максим Гончаров. — Это совсем другой уровень и более специализированные направления математики. Мы знакомим участников с теми объектами, которыми сами занимаемся — алгебра Ли, ассоциативная алгебра и теория Грёбнера — Ширшова. Самая интересная область исследования возникает на стыке направлений. Большинство китайских участников из Цзилиньского университета занимаются геометрией, а мы — чистые алгебраисты, и им нужны наши методы. Несколько лет подряд мы печатались с ними в одних и тех же математических журналах, читали статьи друг друга, повышался взаимный интерес. С помощью таких школ мы распознаем наиболее способных студентов, заинтересованных в дальнейшей научной работе. Ученые уже давно не сидят в одиночку в подвале, бегая из угла в угол с растрепанной шевелюрой и изобретая машину времени. С таким объемом информации порознь работать уже невозможно.

