Физик-теоретик Денис Баранов занимается нанофотоникой: изучает, как свет взаимодействует с материей в наномасштабе, как можно манипулировать излучением, чтобы даже сверхтонкая пластинка могла отразить, повернуть, сфокусировать свет так, как нужно нам. Мы попросили ученого рассказать, как он пришел в науку, как мир теоретической физики выглядит изнутри, в чем теоретик может черпать вдохновение и в чем видит свою цель.

фотограф Анастасия Каплина
— Как вы пришли в науку?
— Наука — довольно нишевое ремесло. Когда я думаю об этом, я часто вспоминаю книгу Германа Гессе «Игра в бисер», где описана Касталия, такой монашеский орден, члены которого посвятили жизнь красоте этой абстрактной игры. Еще один источник научного и эстетического вдохновения для меня — книга «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберта Персига.
А пришел я в физику очень просто. Мне было лет семь-восемь, я был во втором или третьем классе, и друзья семьи подарили мне толстенную энциклопедию по физике. Там не было красочных картинок с телескопами и установками, а только нудные списки формул, законов, утверждений. Просто сухой текст — и очень сильно выраженная, кристаллизованная структура. Именно эта структура и тот способ, которым там описывался мир, меня очаровали. Через некоторое время стало понятно, что у меня есть страсть к этому делу, к этому ремеслу.
— А как вы его себе тогда представляли? Вы подумали: «О, физика — это интересно, буду физиком!» Что такое для вас тогда это было?
— Разумеется, я тогда представлял себе какие-то красочные эксперименты, лазеры, частицы. Сегодня я понимаю, что физика — далеко не столь романтичное занятие, каким его себе можно представлять.
Тогда у меня не было в голове картины работы физика. Очарование было именно в структуре, о которой рассказывала эта книга, меня очаровала строгая система, идея, что весь мир — набор уравнений, которые можно написать. Наверное, уже тогда мой мозг был склонен к структурам, стройным картинам, абстракциям. Я почувствовал склонность и стал узнавать, впитывать в себя этот способ описания мира. Учителя это подхватили, возникла положительная обратная связь, и через несколько лет стало понятно, что это дисциплина, которая хорошо у меня идет.
— Но почему вы не стали математиком, если вас интересовала красота систем, структуры?
— Математика всегда была близка, не знаю, почему не математика. Возможно, тут подключились какие-то соображения про карьеру. Мне и моим родителям казалось, что физика дает чуть больше чисто практических возможностей.
— А какую роль во всем этом сыграли ваши родители?
— Они наставили меня на путь истинный. Они тоже увидели этот талант, мое стремление. Они скоординировали меня, направили к учителям, к репетиторам, в Заочную физико-техническую школу (ЗФТШ) МФТИ. Сами они не ученые, но они поддерживали меня, видя спектр возможностей: стать ученым, может быть инженером. Они видели Физтех и аспирантуру как платформу, чтобы развивать мою интеллектуальность, дать мне образование. У них не было стремления вырастить меня ученым.
— У вас был какой-то план на случай, если не получится поступить в МФТИ?
— Наверное, был какой-нибудь другой университет, тоже технический, из разряда МИФИ, Бауманки, чего-то такого. Но он не пригодился. Физтеховские весенние олимпиады были. Я ее написал как раз, и набрал более чем достаточно баллов, чтобы поступить, сдавал только русский язык.
— Были преподаватели, которые вам на первых курсах запомнились, которые вас впечатлили?
— Был семинар Владимира Александровича Овчинкина по физике. Каждую неделю собирается огромная аудитория, и он рассказывает, как решать текущие задачи по физике. Это не лекции с абстрактными законами, а какие-то конкретные задачи из учебника. Известнейшая вещь, одна из самых известных лекций на Физтехе, наверное.
Она была интересна в основном своей практической ценностью, это были реальные задачи, которые нужно решать. И еще большую известность получили его лекции перед экзаменом, где он показывал задачи, очень похожие на те, что будут на письменном экзамене по общей физике. Официально — нет, но они каждый раз оказывались очень похожими, и туда набивалась не одна, а три аудитории в одной. И все-все это посещали. Это была прямо фирменная лекция перед письменным экзаменом по физике.
А другие преподаватели, знаете, такие личности, чтобы прямо впечатлить и запомниться, наверное, появились позже и не на Физтехе, а на YouTube — по совершенно другим вещам, связанным скорее даже не с физикой, а с математикой.
— А кто вас вдохновил на YouTube?
— Есть такой абстрактный предмет «теория категорий». Это как математика на стероидах. Дисциплина, которая изучает максимально общие, максимально универсальные абстрактные структуры и максимально универсальным языком, пытается описывать общности между вещами, которые выглядят совершенно разным образом. Она вскрывает эту непохожесть и показывает, что на самом деле под землей, где-то там, между этими двумя структурами существуют невидимые нити, которые их связывают. На самом деле, это одно и то же — то, что на поверхности выглядит как совершенно разные вещи. То, как человек это рассказывал аудитории, как красиво он это делал, вдохновлял, завораживал — перед этим я не мог устоять. Это Бартош Милевски, программист, математик, автор книги, просто очень очаровательно и вдохновляюще рассказывает.

фотограф Анастасия Каплина
— Как для вас выглядел студенческий быт?
— Комната в общежитии на четыре человека. Коридор, общие кухня, душ и туалет. Это был стресс, было непросто к этому адаптироваться, родительский дом всегда манил, конечно. Да, бывало тяжело. Особенно с моей склонностью к ностальгии, к любимому месту. Но знаете, было и много приятных моментов: друзья, одногруппники, с которыми мы жили. Но часто хотелось домой.
Дом — это дом. Там безопасно. Ощущение дома. Несмотря на то что я физик и люблю эти абстрактные законы, выяснилось — и я для себя это понял относительно недавно, что я воспринимаю реальность скорее чувственным образом, нежели рациональным. Свои ощущения, то, что со мной происходит, что я вижу, что я получаю. Картины, настроения, слова, интонации, звуки.
— Что запомнилось от студенчества помимо учебы?
— Одно из приятнейших событий для меня и для некоторых моих друзей, насколько я знаю, — когда все из нашей комнаты сдавали сессию и мы строили планы: ехать домой на летние или зимние каникулы. Мы собирались компанией и шли в железнодорожную и авиакассу, чтобы купить всем билеты. Это был один из приятнейших моментов, когда вся нагрузка и тяжесть позади, экзамены сданы. Для меня это было очень душевным моментом.
— Когда вы окончили три курса, в какой момент появилась проблема: куда идти специализироваться?
— Где-то на третьем курсе возникла проблема как специализации в науке, так и более широкая — остаюсь я в науке или иду в условный «Сбер» программировать?
Я не знаю, как сейчас, но в мое время одним из элементов при поступлении было собеседование и одним из вопросов был: на какую базовую кафедру вы хотите пойти? И на это нужно ответить даже до первого курса, перед поступлением! Откуда абитуриент может знать, чем он хочет заниматься: черными дырами, нанофотоникой или биологией?! Проблема в том, что выбор, который ты делаешь, остается, он определяет, какой наукой ты будешь заниматься.
Зачем до поступления нужно делать этот выбор, почему бы не сделать его на третьем курсе, когда мы приступаем к бакалаврскому проекту, я не понимаю.
— Какой был ваш первый выбор?
— Что-то с квантовой оптикой связанное. Я в итоге не сильно его изменил. Я сменил в основном географическую локацию и группу. Кафедра, которую я выбрал вначале, была в Троицке, это был Институт спектроскопии РАН. Я выбрал другую локацию, которая географически была гораздо доступнее. Это было удобно — не ездить два-три раза в неделю в Троицк из Долгопрудного.
Нанофотоника, которой мы занимаемся здесь, это дисциплина, которая изучает взаимодействие света с мельчайшими объектами. Это был Институт теоретической и прикладной электродинамики (ИТПЭ), он связан с Объединенным институтом высоких температур (ОИВТ РАН).
Они хорошо «продавали» свою деятельность — рассказывали о шапках-невидимках, о метаматериалах, то есть материалах с отрицательным показателем преломления. Тогда это было очень популярно. Я решил: да! География отличная, тематика отличная, люди что-то делают, кафедра новая, стипендию платят! Метаматериалы, шапка-невидимка, свет. Свет!
— Какой была ваша первая научная задача?
— Примерно третий курс. Задача была не очень мне понятной, взаимодействие с руководителем еще не было налаженным. И серьезно что-то стало получаться на четвертом курсе.
Первая задача была нормальной, просто я не видел в ней красоты. Она была про маленькую металлическую частицу, на которую падает свет. Нужно было исследовать особенности рассеяния света на этой частице. Я не понимал формулы, которые там были, не понимал, как они работают. Для меня это был какой-то черный ящик: кручу «ручку» здесь и здесь, что-то подаю на вход, что-то выходит. И руководитель не смог тогда мне помочь.
А на четвертом курсе появилась задача, в которой я стал крутить ручки и уже начал видеть: ага, если я кручу вот это, получается это. Начал соединять точки, знаете, как детективы в сериалах соединяют на пробковой доске фотографии цветными ниточками. Я такими же ниточками стал соединять различные физические эффекты и начал делать выводы. Это интересно, красиво. Тогда начало захватывать.
— Что это была за задача?
— Материал, но не обычный, а искусственный, сделанный из металлических проволок, которые стоят в диэлектрической матрице. И по такому материалу может бежать световая волна, очень сильно локализованная, «привязанная» к поверхности. Это называется «поверхностная волна».
Такие волны обычно могут бегать по металлическим поверхностям, например по золоту или серебру. И оказалось, что если взять не просто кусок металла, а проволочки, расположенные в диэлектрической матрице, то у этой поверхностной волны появляются необычные свойства. В частности, из-за того что в металлах есть поглощение, они свет превращают в тепло, поэтому поверхностная волна затухает и пробегает лишь маленькую дистанцию. А здесь выяснилось, что при определенных условиях волна начинает бежать бесконечно далеко без потерь. Выяснилось, что она вытягивает энергию из верхнего пространства (из воздуха) и за счет этой подпитки может бежать бесконечно долго. Вот это мне очень понравилось: когда удается найти что-то необычное.
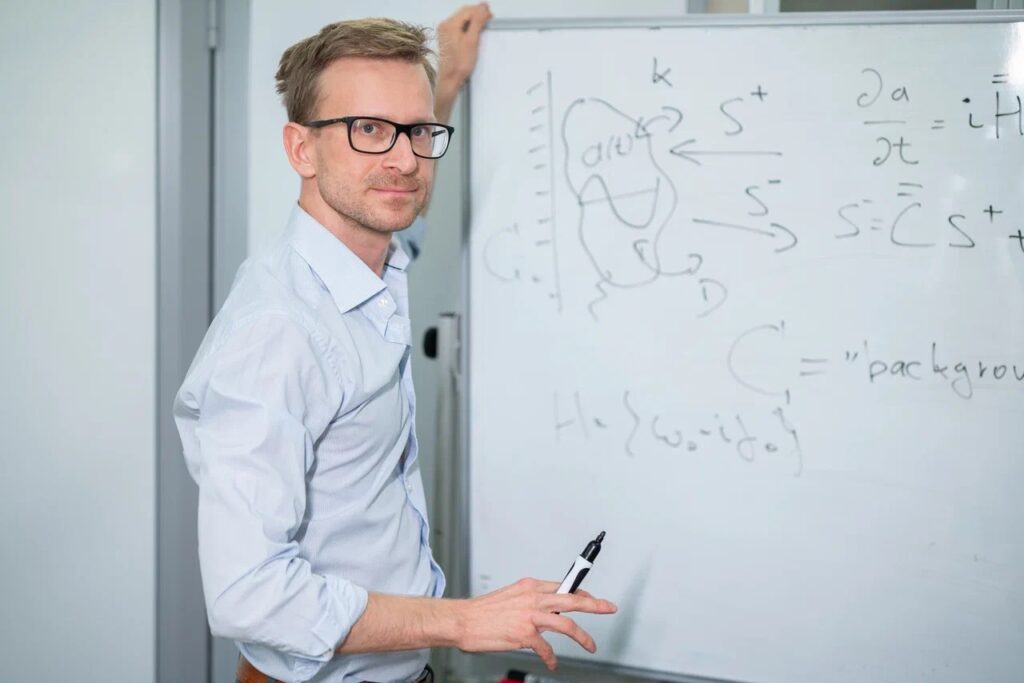
фотограф Анастасия Каплина
— Это была теоретическая работа?
— Где-то там вдалеке была идея, но мы занимались теоретической работой. Потом, кстати, эксперимент был; чуть с другой стороны, с другого угла мы к этому подошли, но мы его сделали. С другими коллегами. Я делал это с американцами, когда это еще было возможно. Под конец моей аспирантуры провели эту проверку, кстати.
— Этот эффект может пригодиться?
— Вы спрашиваете о практических приложениях нашего исследования? Короткий ответ таков: скорее всего нет. Но! — не все так просто и однозначно. Не стоит питать иллюзий насчет мгновенного практического приложения наших результатов. Скорее всего их не будет.
Можно прийти в науку и думать: я делаю исследования на бумажке, их завтра подхватят какие-то исследователи, инженеры, технологические стартапы и сделают какой-то новый прибор, новые очки виртуальной реальности, которые будут результатом нашего исследования! Нет. Это не так. Велика вероятность, что никто ваши результаты не подхватит на следующий день после публикации.
Но мы добываем фундаментальные знания о свете, которые могут кому-то пригодиться через 5, 10, или 15 лет. И может быть, на основе этого знания будет сделан какой-то классный прибор, который поменяет, облегчит нашу жизнь или каким-то еще образом будет полезен.
Основная ценность нашего ремесла в другом: есть некая «стена» фундаментального знания. Про что угодно — про частицы, про черные дыры, про язык, про клетки. Есть стена знания про свет, часть нашего научного фронта, который еще Ньютон описал как расширяющийся шар. Эта стена состоит из большого-большого числа кирпичиков. Я бы даже сказал, огромного. И она неполна. Она никогда не будет полна. Наша работа — достраивать эту стену. Каждый работает над своим кирпичиком, который кажется маловажным. Я посчитал структуру, получил, что волна может бежать так и сяк. Очень маленький кирпичик! Но он дополняет эту стену. И важность каждого кирпичика становится понятной только в контексте всей этой стены. Потому что мы получаем один результат, второй, третий, десятый, сотый, достраиваем эту стену и получаем в конце более целостное представление о том, что можно делать со светом, а чего нельзя.
Глядя на весь этот массив, полученный нами, всеми другими исследователями в мире, уже в свою очередь инженеры и стартаперы понимают: ага, может быть, мы можем вот это скомбинировать таким-то образом и сделать устройство, которое облегчит жизнь человека. Но следует помнить, что создавать устройства и думать о приложениях – не наша прямая работа. Мы конечно же имеем их в виду, но все же занимаемся добычей фундаментального знания.
Мы знаем, что свет — одна из важнейших сред. Он переносчик энергии. Почти вся энергия, которая есть в нашем распоряжении, помимо ядерной, прямо или косвенно связана со светом. Даже ископаемое топливо — это энергия света в конце концов, не говоря уже про солнечную энергию, энергию приливов, энергию ветра и т. д. Это переносчик информации — как визуальной (аналоговой), так и цифровой, которая бежит по дну океана. Поэтому очень важно уметь со светом взаимодействовать, жонглировать им, поглощать, рассеивать, отражать, затягивать, захватывать какими-то структурами, перенаправлять, менять длину волны и т. д. Ровно этим мы и занимаемся. Мы получаем знания о том, каким образом можно светом жонглировать необычными способами. Это знание может пригодиться для этих практических приложений впоследствии — в целом, в общем. Может не пригодиться, но тогда пригодится весь этот объемный массив знания, над частью которого мы работаем.
— Как вы для себя ощущаете свет?
— Две точки зрения. Одна научно-техническая, другая эстетически-чувственная. С научной точки зрения для меня свет — это поле. Это среда, субстанция, в которой есть электрическое и магнитное поле, которое распределено по пространству, которое колеблется во времени и в пространстве. Волна, которая в этом пространстве живет, туда-сюда бегает.
Мне очень интересно понять, что с этим полем можно делать, как его можно запихнуть в какой-нибудь интересный сосуд на подольше, или как-то потом из этого сосуда высветить, чтобы оно побежало в нужную сторону. Это такая полевая субстанция для меня.
С эстетической точки зрения свет мне тоже важен. Я люблю свет, цвет в фото, в интерьере, в природе. Обожаю запечатлевать свет и цвет на фото. Люблю художников, для которых свет так же был важен — Эдварда Хоппера, который сказал: «Maybe I’m not very human, but all I wanted to do was to paint the sunlight on the wall of a house». Все, что я хочу сделать, это написать свет на стене дома. Я так поступаю в своей фотографии: мне важно запечатлеть какое-то красивое пятно света.
— Что вы снимаете?
— Детали природы, детали города, интерьеров. Иногда портреты. Людей тяжелее снимать. Не люблю снимать пейзажи, какой-то большой карьер, лес, долину. Нет. Мелкие детали. Мне нравится видеть в большой картине красивую уютную деталь. Это один из больших источников вдохновения и гармонии для меня.
Люблю снимать на пленку. Тут важно ограничение: вы можете не пять тысяч одинаковых снимков нащелкать, а 36. Тогда каждый снимок становится особенным и важным. Плюс, очень интересная теплопередача. Цвето- и светопередача пленки. Зерно, опять же. Контраст.
— Если представить себе, что вы не стали ученым, исследователем, кем бы вы стали?
— В первом или втором классе школы, сколько помню, нам задали сочинение на тему: «Кем бы я хотел стать?» Не было у меня тогда еще этой подаренной энциклопедии по физике, я написал, что хочу быть сварщиком. Может быть, потому, что у нас дома тогда был ремонт, было много сварок.
Но наука пришла настолько рано, что я просто не успел прочувствовать склонности к другим дисциплинам, трудам и сферам вообще. Я ничем больше не занимался в жизни, кроме профессиональной науки. Любительски — да: фотография, чайное дело, что-то еще. Не знаю. Может быть, стал бы дровосеком — я люблю леса и походы.
— Как изменились ваши представления о том, что такое наука, кто такой ученый, что это за занятия, что это за сословие? Если сравнивать с тем, что вы об этом думали, пока еще были снаружи, и когда оказались внутри?
— Одним из основных изменений оказалось отсутствие романтики. При поступлении мы вздыхали: в телескоп смотреть, фотончики куда-то запускать! Но нет, это проза жизни, писанина, причем не только научная, но и грантовая, бюрократическая. Но отделить это от научной работы сложно, грань очень плавная, потому что научная работа переходит в обсуждение результатов на семинарах со студентами, аспирантами, руководителями. Это переходит в обсуждение проектов, оно переходит в обсуждение заявок на гранты. И это уже переходит в работу над заявками, в отчеты. Но эта административная работа не больше половины, 30–40% она занимает.
— Как вы относитесь к наукометрии?
— Это меняет науку, дисциплину, подход. Но, с другой стороны, без этого тоже никуда, потому что ученым нужно платить, причем делать это в соответствии со способностями, результатами, достижениями. А значит, их нужно как-то оценивать. Это не единственный, но один из самых понятных и прозрачных способов, который мы придумали и который худо-бедно работает. У него много недостатков. Но он как-то работает.
Должно быть стремление исследователя: уметь, научиться сочетать добывание знаний и умение представлять твои знания таким образом, чтобы все это выливалось в показатели. Это можно делать.
— Вы чувствуете свою принадлежность к какой-то группе, школе?
— В нашей области, нанофотонике, очень сильна «российская мафия», причем рассредоточенная по всему миру — от Штатов до Австралии. Но там в основном old guard, представители старшего поколения, за 40–50 лет.
Важным зерном для нанофотоники стала пара статей Виктора Веселаго про метаматериалы, написанные в конце 1960-х. Про них забыли на 30 лет и вспомнили в конце 1990-х, причем сделал это англичанин Джон Пендри, который придумал метаматериалы и отрицательное преломление. Он переинтерпретировал статьи Веселаго под новым соусом, и все это закрутилось.

фотограф Анастасия Каплина
— Какое самое главное достижение в вашей области за последние пять-десять лет?
— Сложный вопрос. Видите ли, уравнения Максвелла, которые описывают свет и вообще любое электромагнитное излучение, были написаны 150 лет назад. Они в целом закрывают вопрос про эту науку. Что нам остается делать, это искать, какую взять структуру и из какого материала, чтобы свет таким-то определенным образом рассеивался, захватывался или поглощался.
То есть это скорее вопрос инжиниринга структуры поля: чем посветить, как эти структуры упорядочить? Наша область — как раз поиск таких структур.
Пожалуй, одно из главных достижений нашей дисциплины последних лет 15 — метаповерхности, которые представляют собой очень тонкие структуры толщиной меньше длины волны (сотни нанометров) и позволяют очень гибко управлять светом. Падает свет и мы можем придать этому волновому фронту практически какую угодно форму тоненьким 100-нанометровым слоем. Можем сфокусировать, можем отразить, можем преломить очень необычным образом, можем поглотить, можем направить вдоль метаповерхности.
Это такая парадигма, которая появилась как раз чуть более десяти лет назад и сейчас скорее уже начинает приходить в индустрию, в реальные устройства. Не могу сказать, что вы можете пойти и купить такой девайс на маркетплейсе, но люди это делают, да.
Могут появиться очень легкие очки с дополненной реальностью, контактные линзы. Бывший директор нашего центра Валентин Волков сделал стартап в Дубае, который посвящен разработке контактной линзы на метаповерхности. До устройства еще далеко, но они движутся в эту сторону.
— Как бы вы описали место вашей лаборатории в мире?
— У нас своя песочница, не супербольшая. Но мы делаем свою долю, получаем интересные результаты, пресловутые кирпичики, которыми дополняем стену. Она заметная. Меня знают. Я знаю людей. Со мной здороваются, вступают в диалог.
И есть определенные прорывы, которые я стал делать здесь, на Физтехе. Есть такое понятие — хиральность. Есть правая и левая ладонь, мы их никакими поворотами и перемещениями никогда не можем совместить. Хиральность существует и на микроскопическом масштабе, многие молекулы хиральны. Есть правая молекула и есть левая молекула. Оказывается, что такие молекулы составляют наши тела и вообще тела любого живого организма. Они отличаются друг от друга по биологическому действию. И важно уметь их отличать. Но проблема в том, что физические свойства правых и левых молекул одинаковы. У них одинаковая масса, температура плавления, кипения, теплопроводность и электропроводность, цвет — все одинаковое. Как же их тогда отличать?
Оказывается, что фотоны (частицы света) тоже бывают хиральными. Бывают фотоны, закрученные влево, а бывают фотоны, закрученные вправо. Если взять электромагнитную волну, остановить время и посмотреть на то, как электрическое поле ведет себя в пространстве, оно обрисует спираль. И спираль бывает одной закрутки либо другой.
И оказывается, что если вы возьмете правую и левую молекулы, то правый фотон будет сильно взаимодействовать с правой молекулой, будет на ней рассеиваться и поглощаться. А левый фотон, наоборот, с левой молекулой. Таким образом, посветив на биомолекулы неизвестной хиральности правым и левым светом, мы можем понять, с какими молекулами мы имеем дело.
И тут начинаются проблемы, потому что хиральность этих молекул очень слаба. Ее почти незаметно, если светить правым и левым светом. Это какие-то доли процента. Ее нужно усиливать. Каким образом это сделать? Очевидная идея — это резонаторы Фабри — Перо — два зеркала, между ними фотон, луч света, бегает туда-сюда много-много раз и усиливается из-за этого. И можно было бы поместить внутрь такого резонатора хиральные молекулы и надеяться на какое-то усиление (хиральный отклик). Но проблема заключается в том, что если вы, допустим, возьмете правый фотон и попробуете им запитать резонатор, то правый фотон при отражении от зеркала поменяется на левый (а левый, соответственно, на правый). И в итоге волна потеряет хиральность. Возникает вопрос: как сделать резонатор Фабри — Перо, по которому могла бы бегать, например, правая или левая световая волна и сохраняться при отражении.
Мы такие резонаторы придумали, описали их теоретически. Помещали туда хиральные молекулы теоретически, смотрели, что с ними происходит (опять-таки, с теоретической точки зрения). Довольно интересный эффект обнаружили. Например, выяснилось, что даже в темноте, в отсутствие любого света, если вы возьмете резонатор, в котором есть правая мода, но нет левой, то при помещении туда по очереди правых и левых молекул они будут испытывать разную вакуумную энергию. Оказывается, что правые молекулы в правом резонаторе и левые молекулы тоже в правом резонаторе — у них возникает дисбаланс. И появляется надежда, что если дать достаточно времени этим молекулам, правые молекулы очень медленно превратятся в форму левых, потому что они хотят перейти туда, где меньше вакуумной энергии. Вот и сейчас мы думаем про экспериментальную реализацию таких хиральных закрученных спиральных оптических резонаторов. Это тот фронт работ, который мне очень нравится, который меня очень возбуждает интеллектуально.
— Вы работали за границей, как этот опыт на вас повлиял?
— После защиты, в конце своей аспирантуры я стал понимать, что мне не хватает самореализации в моей текущей группе. Образованные, классные, умные, талантливые люди с любопытством, с интересом — но мне хотелось попасть в какое-то место, где сама работа, сам менеджмент научной работы устроен лучше. С этим у нас была большая проблема.
И поэтому я стал искать другое место. Просто рассылал personal letter и curriculum vitae, спамил профессоров. Два положительных ответа (один из Штатов, другой из Швеции), и очень быстро я сфокусировался на шведском.
— Ваши обязанности состояли в том, чтобы сидеть за компьютером и писать статьи?
— Сидеть за столом и поддерживать ту деятельность, которой занимается группа. Группа была экспериментальная, им нужен был теоретик, который может моделировать, описывать. И я должен был предоставлять свою экспертизу: описывать то, что происходит, придумывать что-то новое. Это был диалог. Давай придумаем вот это! А что ты думаешь вот про это? Таков синтез, который работает в обе стороны.
Сама работа была более комфортной, было более тесное взаимодействие в группе. Еженедельные встречи, причем по разным поводам — как рабочим, так иногда и нерабочим. Но было отличие: с одной стороны, более тесные встречи, а с другой стороны, казалось, что внутри этой шведской группы более сильное разделение идет. Один человек занимается этой задачей, другой — этой, и как будто бы они взаимодействуют интенсивно в том смысле, что рассказывают друг другу, кто чем занимается, а с другой стороны, совершенно не лезут друг к другу. И вот этого в России у меня было больше, мы прямо сильно переплетались и друг другу предоставляли — а давай я сделаю это, а ты вот это? Там как будто этого было меньше.
Шведский вайб был повсюду в работе, несмотря на то что у нас в группе было много иностранцев. Например фика — это когда они устраивают перерыв на 10–20 минут в течение рабочего дня на торт и на разговор под кофе. Просто разговоры обо всем.
В целом мне было сложно адаптироваться к Швеции, потому что я уехал один, без любимых людей, мест, занятий. У меня была только работа и бассейн. Я долго не мог найти себя, не принимал, отвергал шведскую культуру, язык, кухню, трамваи, улицы. А потом появилась женщина, которая показала места, занятия, рутину, досуг. Мы стали вместе этим досугом заниматься. Оказалось, что его можно придумать очень много и классного. Выяснилось, что летом Швеция — чуть ли не морской курорт. Я принял эту культуру. Она осталась где-то глубоко внутри меня.
— Я видел мнения, что наука, физика в стагнации, в нее вкладывается все больше и больше денег, но прирост действительно серьезного знания при этом замедляется. Вы это чувствуете?
— Я думаю, это общее ощущение, которое вполне понятно, потому что век назад у нас было больше не открытых и не закрытых вопросов. Хотя в какой-то момент мы думали, что — ага, почти всё, осталось объяснить какие-то особенности излучения черных тел. Но тут приходят Макс Планк, Эрвин Шрёдингер, Нильс Бор и появляется квантовая механика, потом еще астрофизика подключилась с законом Хаббла и расширяющейся Вселенной, темной энергией.
Кажется, что мы опять находимся в том моменте, когда мы почти всё понимаем. Остаются только некие локальные вопросы в физике элементарных частиц, в рождении Вселенной. Кажется, что в физике мы действительно подходим к этой асимптоте. Но это естественный процесс. Мы исследуем, устанавливаем закономерности и законы. Особенно в нанофотонике мы сделали это давно с уравнениями Максвелла, и все, что нам остается, — вот этот инжиниринг новых систем, структур. Да, он насыщается. В какой-то момент фундаментальные исследования будут сменяться инжинирингом и разработкой устройств.
— Какие задачи вы хотели бы решить в ближайшие четыре-пять лет?
— Я думаю, что с хиральными молекулами хотелось бы научиться работать. Задачи понятны. Задачи интересны. Понятно, какими инструментами их решать, что мы можем предложить. Это интересно, вызывает огонь в глазах моих и моих учеников.

фотограф Анастасия Каплина
— После начала СВО вы заметили какое-то охлаждение или расхождение с западными коллегами?
— Конечно, заметил! Мои шведы не смогли, например, продолжать работать со мной из-за довольно большой паранойи, которая в северной Европе приключилась. Их можно понять, целиком понимаю. Но это очень большие неудобства доставляет.
Это паранойя политиков в северной Европе. Среди коллег ее нет, все всё понимают. Паникуют бюрократы, политики, которые в Скандинавии и в северной Европе особенно беспокоятся насчет России. Можно их понять, но от этого страдают ученые.
Неформальные связи остались. Я постоянно общаюсь со своими шведами, с людьми в Китае — там без проблем можно общаться, иногда общаюсь с людьми в Штатах, в Европе. Люди с русскими паспортами продолжают в Европе работать, хотя это стало сложнее. Делать работы и публиковаться стало сложнее вместе.
— Что бы вы хотели сказать тем, кто сейчас думает о профессии физика?
— Тем, кто хочет в это ремесло попасть? Важно уметь искать и находить в этом красоту, уметь получать вдохновение и интеллектуальное удовлетворение от этого поиска. Если вы собираетесь заняться наукой, то нужно понять, почему вы хотите заниматься именно этим, увидеть в ней красоту. И тогда ваша работа, ваш исследовательский процесс пойдут более гладко, активно. Весь этот процесс закрутится, будет подпитывать вас. Появится положительная обратная связь. Все это основано на внутреннем огне — огне эстетическом, огне вдохновения.
При поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-571 и всемерной поддержке Физтех-Союза.

